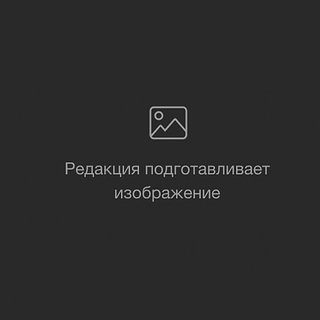На книжном фестивале «Красная площадь», который проходит с 3 по 6 июня у стен Кремля, будет представлен проект «Народное сочинение. Уроки литературы». Это конкурс историй разных людей об их уроках литературы. Об условиях участия можно прочесть на официальном сайте проекта. По итогам конкурса будет выпущена книга. В жюри премии журналист Фекла Толстая, литературовед и телеведущий Александр Архангельский, писатель Алексей Варламов, учителя словесности Лев Соболев и Сергей Волков, поэт Евгений Бунимович и другие гуманитарии. «Лента.ру» публикует воспоминания члена жюри проекта «Уроки литературы» Евгения Бунимовича о его обучении в знаменитой «Второй школе».
ФЕЛИКС, ЗОЯ, ИДЕАЛЬНЫЙ МОБИЛЬ И КОРЕЙСКАЯ СВИНЬЯ
1.
Когда в сентябре 1968-м году я перешел в 9 класс всей Москве известной Второй физико-математической школы, меньше всего, естественно, я думал про уроки литературы. Если и думал – только о том, чтоб их было поменьше.
К этому моменту как с классической литературой в целом, так и со школьными уроками литературы в частности для меня всё было предельно ясно - это не имело ко мне никакого отношения.
Удобно расположившись на последней парте, приготовился я мирно продремать оставшиеся два года среди лишних людей, лучей света в тёмном царстве и прочей хрестоматийной лабуды - и написать затем требуемое выпускное сочинение.
Учитель литературы сперва заинтересовал меня разве что тем, что много курил, причём не как все, а через забавную трубочку.
«Мундштук» - со знанием дела диагностировал более эрудированный в этом вопросе одноклассник Ян.
Так вот, этот чудак с мундштуком на одном из первых уроков стал зачем-то читать вслух занудную сцену объяснения в любви из тургеневского «Накануне»:
…она приняла руки, взглянула на него и упала к нему на грудь он окружал своими крепкими объятиями эту молодую, отдавшуюся ему жизнь никогда не изведанные слезы навернулись на его глаза ты пойдешь за мной всюду? - всюду, на край земли сердце, его ли, ее ли, сладостно билось и таяло… ну и так далее.
- Ну как? Нравится?
Мы пришли из самых разных школ одинаково опытными советскими девятиклассниками, и нас голыми руками взять было не просто.
- Да, очень. Это же Тургенев! - отвечали законченные пятнадцатилетние лицемеры.
- А тебе тоже нравится?
– Нравится.
– А тебе?
– Конечно, это же русская классика!
– А тебе?
Кто-то, не устояв перед напором учителя, с перепугу повысил градус: «Это гениально!». Кто-то на всякий случай вставил про великий и могучий. Так учитель добрался и до последней парты, то бишь до меня:
- А тебе?
Настойчивость настораживала. Чего он хочет, этот жилистый, рыжий, всклокоченный мужик? Чего мусолит? Получил ответ про гениальную русскую классику – всё, погнал дальше.
Я впервые внимательно взглянул в выпученные сквозь толстые стекла очков глаза человека с литературной фамилией Раскольников. Неужели его интересует, что я на самом деле об этом думаю?
Я встал и сказал:
- Если честно, сам я в любви ещё ни разу не объяснялся. Но, по-моему, это делается не так.
Класс загоготал, учитель вместе со всеми. Он заговорил о вымученности языка, надуманности эпизода. Прочитал совсем другой, действительно классно написанный кусок из того же романа.

Евгений Бунимович
Фото: Наталья Логинова / «Коммерсантъ»
Это было невероятно. Не то, разумеется, что классик, портрет которого висел тут же, мог писать так себе, не ахти. К девятому классу это уже не было для меня открытием.
Невероятно, что об этом можно было говорить - в школе, в классе, на уроке. И даже имело смысл говорить. Говорить о том, что думаешь.
Многое на уроках литературы оказалось столь же необычным, невероятным. Даже распределение времени. Вместо положенных по программе нескольких часов мы едва ли не весь год занимались на уроках «Войной и миром». Сцена за сценой, том за томом. Мы отчасти даже бредили героями Толстого, вечерами подолгу висели на телефонах по довольно странному поводу - пытались проникнуть в мысли, чувства, отношения Наташи, Андрея, Пьера…
«Феликс Александрович, а как же остальная школьная программа? Как Вы всё успеете?» - робко поинтересовалась моя мама на родительском собрании.
Феликс, которого наверняка спрашивали об этом не в первый раз, величественно ответил: «Если они разберутся в «Войне и мире», то разберутся и во всём остальном…».
Под «всем остальным» Раскольников подразумевал литературу. Она была для него и всем, и остальным.
Как-то по внекласному чтению Феликс задал нам только появившуюся в «Новом мире» повесть Василя Быкова «Сотников» - про белорусских партизан. Там главный герой - тоже, кстати, учитель - в предсмертных обстоятельствах говорит напарнику: «Не лезь в дерьмо – не отмоешься». Почему-то именно эта простая (даже слишком) формула как заноза застряла в голове. И до сего дня помогает делать однозначный выбор в сложных (даже слишком) жизненных обстоятельствах.
Одна характерная особенность нашего литератора была известна всей школе. «Отлично» он готов был поставить, пожалуй, только непосредственно Льву Толстому, себе самому – от силы четыре балла, ну а несмышлёнышам-ученикам…
Приходилось, конечно, учитывать реалии, идти на трудный компромисс, ставить нам иногда за ответы и даже за сочинения четверки, а то и пятерки. Но делал это Феликс всегда с долгими размышлениями, мучениями и сомнениями.
Всё в нём этому сопротивлялось, и прежде всего – искреннее шестидесятническое стремление к идеалу, неистребимая вера в высшую гармонию мира и человека.
«Идеал есть гармония» - эту толстовскую формулу он твердил постоянно, к этому сводил в итоге все наши дискуссии и обсуждения на уроках.
Два года спустя, на нашем школьном последнем звонке, мы подарили ему могучее сооружение на эту тему.
К деревянному постаменту была прибита затейливо скрученная колышущаяся металлическая лента. Это была гармония, внутри которой на цепочке трепыхался идеал в виде куска прозрачного темно-красного плекса. Позднее подобные штуковины искусствоведы назовут «мобилями». Теперь они колышутся во всех уважающих себя музеях современного искусства.
Сохранилась фотография момента вручения. Мы стоим на сцене с Яном и этим мобилем. Там на сцене и все наши учителя – молодые, хохочущие, счастливые, живые…
2.
Толстой, а потом Достоевский, Чехов, Серебряный век – всё это внезапно закончилось к середине десятого класса. На уроках литературы мне стало скучно. Феликс со всей своей дотошностью пытался подготовить нас к грядущим выпускным и вступительным университетским экзаменам (с обязательным тогда сочинением по литературе), выуживая худо-бедно-нравственные коллизии из обязательной программы советской литературы, а я уже не мог всё это даже читать.
Во многом, кстати, благодаря именно Феликсу. После «Войны и мира» всерьёз говорить о Фадееве? О горьковской «Матери»? Прости господи, о «Любови Яровой»?
До поры до времени удавалось успешно выкручиваться. Но это уже были уроки не литературы, а чего-то совсем другого.
Феликс на уроке обычно выбирал в классе жертву, к которой постоянно обращался с вопросами. Отвечать нужно было, ссылаясь на текст обсуждаемой книги. На уроке по фадеевскому «Разгрому» перст судьбы указал на меня, успевшего на перемене узнать только про бедного корейца, у которого красные партизаны с голодухи отняли последнюю свинью.

На перемене. Слева – Игорь Зацман, 1969 г.. Фото: iknigi.net
На первый вопрос я кое-как ответил, ловко связав сцену со свиньей с заданным вопросом. Козырной корейской свиньёй удалось отбить и второй вопрос. Ответ на все последующие вопросы я начинал уже прямо, без обиняков: «Вспомним хотя бы сцену со свиньей». Терять было нечего.
Предатели-однокашники ржали в голос, даже не пытаясь сдерживаться, Фадеев корчился в гробу, а невольник чести Феликс Александрович Раскольников вместо вполне заслуженного «неуда» поставил мне «четыре» (ещё и мотивировал: «всё верно, но примеров маловато…»).
А вот с упомянутой «Матерью» такой трюк не прошёл, и прямо перед выпуском Феликс влепил мне безжалостную пару, поскольку о наличии в нечитаном романе героя по фамилии Находка я вообще не подозревал. Я думал – это город.
Однако далеко не все столкновения несгибаемых представлений нашего по-своему тоже железного Феликса с действительностью оказывались столь забавными и безобидными. Нашему однокласснику Володе Ерёмину Раскольников поставил всё те же два бала уже на устном выпускном экзамене по литературе.
Володя был, конечно, парнем своеобразным, но тем самым он лишался аттестата, мог загреметь в армию… Всё это было по тем временам происшествием не только чрезвычайным, но жестоким и бессмысленным…
И без того тревожная пора выпускных экзаменов была подпорчена ещё и постоянными слухами о грядущем разгоне подозрительно свободолюбивой школы, об идеологических проверках, насылаемых откуда-то сверху. Опасались мы, естественно, не физики с математикой. Но вот какая-нибудь история с обществоведением…
Мы боялись больше даже не за себя, а за школу, готовы были хоть чем-то помочь, честно приходили на все консультации перед экзаменом. Тщетно. Запомнить и воспроизвести ворох верноподданного бреда не получалось. Не тому нас учили.
Спасение пришло неожиданно. Накануне экзамена по истории Наташа (тогда – моя одноклассница, поженились мы уже после университета) искусно пометила экзаменационные билеты. Бессонной ночью каждый из нас выучил свой билет практически наизусть. Проверяли друг друга по текстам впервые открытого учебника обществоведения, который произвёл неизгладимое впечатление. Последний параграф учебника назывался просто и непритязательно: «Счастье». А последний абзац был такой, что я запомнил его навсегда: Раньше поэты изображали счастье синей птицей, которая ускользала от того, кто хотел поймать её за крыло. Теперь мы крепко держим её в руках!
Проверяющая тётка явилась, но она была уже не страшна. Учительница истории Людмила Петровна, сокращенная нами до аббревиатуры ЭлПэ, сидела белей чистого экзаменационного листа, а мы были жизнерадостны и уверены в себе. Никаких нравственных мучений, что придётся гнать идеологическую пургу, мы почему-то не испытывали.
Меня вызвали почти сразу. Иду к столу и – о ужас! – начисто вышибло, как именно помечен мой билет. ЭлПэ почувствовала неладное: «Женя, что с тобой?»
И тут меня озаряет спасительная мысль:
Людмила Петровна, а можно, Наташа вытащит мне билет? На счастье? – спрашиваю со смущённой улыбкой влюблённого дебила.
Проверяющая тётка, насмотревшаяся советских фильмов про школу (а если это любовь?), не смогла скрыть умиления. Можно!
Наташа коршуном бросилась к столу, быстро-быстро-быстро просмотрела оборотки всех лежавших в ряд билетов и безошибочно вытащила – мой. Победа! Счастье! Теперь я крепко держал его за крыло.
Я сыпал всеми с утра распиравшими мою кратковременную память именами, датами и цитатами. Проверяльщица восторженно внимала.
И тут я увидел, как смотрит на меня Феликс, которого тоже зачем-то посадили в экзаменационную комиссию.
Он снял очки, положил их на стол и глядел невидяще и абсолютно потерянно даже не на меня, а сквозь меня. Бунимович, Женя, которого он числил человеком, в мельчайших деталях и подробностях уверенно несёт всю эту официозную ахинею…
Я запнулся, растерялся, умолк. Тут вновь вовремя включилась ЭлПэ: «Наверное, достаточно». Она вопросительно посмотрела на пришлую тётку. Та кивнула. Всё обошлось. Но взгляд Феликса не забылся.
После выпуска мы не раз приходили к Феликсу в гости. Сначала в школу, потом, когда школу разогнали - домой. Он тяжело разводился с женой, женился снова, готовился к эмиграции, вроде бы к какому-то богатому дяде в Канаду, что – согласитесь - звучало уже слегка водевильно.
Последний раз мы пришли к нему домой перед самым отъездом за океан. Сегодня пишут, что это считалось опасным. Не помню, нам было не до того. Уезжал наш учитель. Мы прощались навсегда.
Потом рухнули Берлинская стена, железный занавес и всё остальное. Благополучный на фоне нашей перестроечной разрухи Феликс ненадолго приехал в Москву, мы встретились, наперебой вспоминали школу. Но и только.

«Видно, нам и впрямь было хорошо. Фотографии потускнели, детали стерлись, но это видно».. Фото: iknigi.net
Много лет спустя в России наконец вышла книга Ф.А.Раскольникова «Статьи о русской литературе». Я очень хотел написать рецензию, но не смог зацепиться ни за один абзац. На уроках мой учитель словесности был куда интересней, мощней, притягательней. На бумаге всё выглядело тривиальным, пресным. Его незаурядная личность тонула в правильных литературоведческих пассажах.
Я понимал, как важен был Феликсу отклик именно из России, из толстого литературного журнала, что он как мало кто имеет право на такой отклик. В отличие от своего учителя, я готов был поступиться всеми принципами, даже заранее договорился о публикации… Но так ничего и не написал. Не смог выжать из себя необходимых страниц.
А должен был. Обязан. Да что тут говорить…
3.
Поскольку жили мы по всей Москве, бичом школы были опоздания.
- Я выгоню тебя из школы! - говорил моей однокласснице Римме, чемпиону класса по опозданиям, отвечавший за ловлю нарушителей завуч школы Герман Наумович Фейн.
И когда от Риммы не оставалось уже решительно ничего живого, добавлял: - И не на один день!
На взывавшую к милосердию традиционную реплику нарушителя, что Толстой-мол детей любил (намек на то, что наш завуч вообще-то был известным специалистом по Льву Толстому и даже выпустил о нём умную книжку), Фейн отвечал неизменное: «Я толстовед, а не толстовец!» и заносил фамилию нарушителя в грозный кондуит.
Впрочем, уже через пару месяцев после поступления я уже вполне освоился в новой школе и наловчился вбегать в вестибюль ровно в тот момент, когда звенел звонок на урок.
…Но на этот раз там как назло было аж два завуча. Помимо Фейна, привычно ловившего опоздавших, вдали возвышалась Зоя Александровна Блюмина - монументальная, грозная и ехидная дама, которая почему-то была завучем по специальным предметам, по физике и математике, хотя сама преподавала литературу. Впрочем, школа была в целом настолько удивительная, что такие мелочи уже не удивляли.
Пытаясь как-нибудь понезаметней просочиться на урок, я продвигался вдоль стенки, всячески стараясь с ней слиться.
- Сволочь! Подонок! – услышал я за спиной грозный, скрипучий, такой характерный Зоин голос.
Я оглянулся. Кроме меня и Фейна в вестибюле уже никого не было.
Едва ли Зоя так обращалась к Фейну. Неужели это за опоздание?
- Это вы мне? – спросил я тихо и безнадежно.
- А то кому?
- А что случилось, Зоя? – осторожно спросил Фейн.
- Ты представляешь, этот подонок (голос её потеплел), эта сволочь (голос её стал ещё мягче) написал на районной олимпиаде по литературе, что портрет Льва Толстого работы Николая Ге отдаёт развесистой клюквой!
Фейн (напомню: автор книг о Толстом), с искренним интересом повернулся ко мне:
- А почему Вы так считаете?
В предвкушении культурологической дискуссии он даже перешёл со мной на «Вы», забыв на миг, что его дело – влепить мне за опоздание и отправить на урок.
Я стал путано припоминать свои резоны, но Зоя прервала этот жалкий лепет:
- Герман, да какая разница! Из-за этого Ге (тут Зоя сделала выразительную паузу) ему дали вместо первого третье место и не отправили на городской тур.
- Но я так считаю! – сказал я всё так же тихо, но твердо, ввиду безысходности решив не поступаться принципами.
- Всё-таки проясните свою позицию, – вякнул было Фейн, но под грозным Зоиным взором умолк окончательно.
- Пошёл на урок, подонок, - послала она меня с искренней нежностью в голосе. И я поспешил выполнить её послание.

С Игорем, Ленкой и Региной.. Фото: iknigi.net
Во Второй (напомню: физико-математической) школе собралась блестящая плеяда литераторов. Помимо Зои - Фейн, Камянов, Збарский, Ошанина, Тугова, наш Феликс Раскольников. Я не раз бывал на уроках у каждого из них. При этом прогуливал какие-то свои уроки. Едва ли такие странные прогулы бывают в других школах.
Каждая из школьных литературных звёзд сверкала по-своему, и я завороженно слушал их монологи. Зоиных монологов не помню (может, их и не было). На её уроках говорили все, причём все сразу, а она в своей фирменной ироничной манере походя вытягивала из этого общего гула то самое существенное, что и составляло суть урока. Не прерывая беседы о прекрасном, Зоя успевала дать отрезвляющий подзатыльник отвлекшемуся от высокого полёта мысли, а то и взять нарушителя конвенции за шиворот и выкинуть из класса…
Поступив на мехмат, практически весь свой первый студенческий год я провёл не в университете, а в школе. Автобус, который вёз меня утром в МГУ, проезжал как раз мимо нашей школы, и я либо сразу выходил, либо всё-таки доезжал до знаменитой высотки, одиноко поднимался в битком набитом лифте, открывал двери аудитории, затем закрывал их с той же стороны и возвращался в школу. На первое время школьной математической подготовки хватало, чтобы сносно сдавать зачёты и экзамены, потом были проблемы.
Выход без скафандра из Второй школы в безвоздушное советское пространство оказался для многих выпускников мучительным, опасным, невозможным. Уходили в запой, в диссиденты, в монастырь, в суицид.
Год спустя, по высочайшему повелению горкома партии школу всё-таки разогнали. Уволили директора, уволили всех завучей – в том числе Фейна, Зою. Кто-то из учителей ушёл вслед за ними, кто-то всё же остался. Но школы не стало.
И в студенческие мои годы, и позже, когда я и сам уже вовсю учительствовал, я нередко забегал навестить Зою – в те школы, где она преподавала после нашей Второй. Однажды я впервые увидел её в полной растерянности.
Зоя всегда преподавала самым старшим, а тут взяла малышей, пятый класс. Пятиклассники копошились вокруг неё, как придворные на питерском памятнике у ног Екатерины Великой.
- Ну что я буду с ними делать? – вопрошала Зоя, но всё же пустила меня посидеть на задней парте.
Малыши испуганно взирали на известную всей Москве грозную учительницу словесности, начавшую с вполне банальных вопросов, кто что читал летом. Список оказался типичным для пятиклашек – сказки, приключения, фэнтези. Ответы на вопрос, почему они читали эти книжки, тоже были банальны – увлекательный сюжет, не знаешь, что ещё приключится с героями, чем дело кончится.
И тут она мне подмигнула (фишка!) и спросила – а кто из вас что-нибудь перечитывал? Кто читал книжку, которую уже читал раньше?
Поднялось немало рук.
- А зачем? – невинно удивилась Зоя, - Ведь сюжет известен, что с кем будет дальше – вы отлично знаете. Почему же вы их перечитывали?
И вот тут-то из их собственных ответов на этот Зоин вроде бы бесхитростный вопрос пятиклашкам постепенно открывалось, что есть такие удивительные книжки, в которой перипетии сюжета – совсем не главное, которые притягивают чем-то другим, заставляя перечитывать по многу раз знакомые почти наизусть страницы. Они смешно подбирали слова, искренне пытаясь объяснить не учителю, а самим себе – чем же, если не сюжетом, так интересны их любимые книжки.
Зоя помогала, уточняла, легко, естественно, как будто они сами до всего этого дошли, смогла подвести их к пониманию, чем отличается просто занятная книжка от той литературы, которой они и займутся на уроках.
Я почувствовал, что завидую этим пятиклашкам и не прочь ещё раз пройти этот путь.
…На похоронах Зои повсюду стояли выпускники – молодые и седые. Время от времени слышался сдавленный неуместный смех – вспоминали её коронные словечки и фразы.
Ребята, с которыми она когда-то ездила в Одессу на экскурсию, рассказали, как Зоя подвела их к покосившемуся забору на неприметной улочке и со своей непередаваемой интонацией сказала: «Возле этой калитки мне было восемнадцать лет».

«Неразлейвода дружбой наше совместное раздолбайство, пожалуй, не назовешь. Точнее тут будет слово дружество». Наша выпускная фотография, май 1970 г.. Фото: iknigi.net