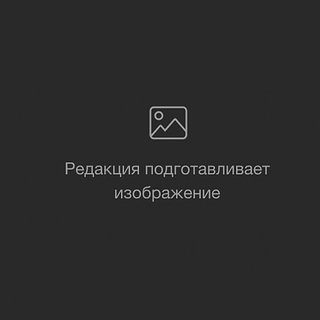Что такое концептуализм? Какую роль, вернее, какие роли играл в этом литературно-художественном направлении Д.А. Пригов (1940-2007)? Какие традиции он развивал и какие создал, какое место он занимает в русской поэзии? На эти вопросы пытается ответить литературный критик Владислав Кулаков.
К 60-летию Дмитрия Александровича его ближайший поэтический сподвижник (в их абсолютно равновеликом тандеме) Лев Рубинштейн взял у него интервью. А публикацию еще в тех старых «Итогах» (хотя и новые давно закрылись) предварил коротким мемуаром на тему «Как я познакомился с Приговым». Вот фрагмент оттуда.
«Гул затих. Поэт начал: "Здравствуйте, товарищи! (Нормально — это соц-арт, все понятно.) Сначала немного о себе. Я родился в Москве. Мне тридцать семь лет, возраст для поэта роковой..." В этот самый момент — ей-богу, не вру — со стены сорвалась огромная картина в массивной раме и с невероятным грохотом брякнулась прямо за спиной выступавшего. Общее оживление, кое-кто зааплодировал. Картину от греха подальше сослали в другую комнату. Что он читал в тот вечер, я помню лишь приблизительно. Кажется, "Куликово поле", "Вот избран новый президент" и все ранние шлягеры были услышаны впервые именно тогда. Помню, что в тот раз я не слишком проникся. Потом поэт Всеволод Некрасов, любивший всех со всеми знакомить, привел его ко мне домой. Потом мы стали приятелями. Потом друзьями. Потом наши имена стали называть вместе, как Маркса-Энгельса или Тарапуньки-Штепселя. Мы и не возражали».
Замечательная, абсолютно рубинштейновская по интонации и обаятельности зарисовка. И что поразительно: Рубинштейн, услышав все канонические шлягеры Пригова, «не слишком проникся». Я эти шлягеры услышал через 9 лет, на открытии московского клуба «Поэзия» летом 1986-го. И как раз сразу проникся. Тогда в официальной печати была дискуссия о современной поэзии, в том числе говорили об обериутской традиции, совершенно, на мой взгляд, необоснованно. А тут я увидел: да вот она, обериутская традиция, и в самом лучшем, совершенно новом виде!
Ясное дело, Рубинштейну и в 1977-м не надо было объяснять, кто такие обериуты (известная авангардная поэтическая группа 1920-х годов — Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий и примкнувший к ним Николай Олейников). Но и он, видимо, от поэзии тогда ожидал чего-то иного, не совсем того, что предлагал Дмитрий Александрович.
Если так было с Рубинштейном, что же говорить об остальных ценителях поэзии! Они заведомо будут прописывать Пригова по ведомству в лучшем случае экспериментального искусства, а то и вообще отказывать ему в праве на изящную словесность. Сходная проблема была, кстати, с восприятием (ученые говорят — рецепцией) обериутов. Литературовед и младший современник обериутов Лидия Гинзбург размышляла на эту тему и в 1930-х годах, общаясь с оберитуами, и в 1980-х, вспоминая их. Вот как, по ее свидетельству, относилась к обериутам Ахматова: «Вкус Анны Андреевны имеет пределом Мандельштама, Пастернака. Обериуты уже за пределом. Она думает, что Олейников — шутка, что вообще так шутят». Сама Лидия Яковлевна так не думала.
Обериутская традиция (тоже, кстати, имеющая корни — в «самодеятельных» стихах персонажа Достоевского, капитана Лебядкина, в пародийном творчестве Козьмы Пруткова, в мрачных сатирах Саши Черного и прежде всего в могучей примитивистской поэтике футуриста Велимира Хлебникова) нашла свое продолжение во второй половине 1950-х и в 1960-х годах в конкретистской поэзии так называемой лианозовской группы (Евгений Кропивницкий, Игорь Холин, Генрих Сапгир, Ян Сатуновский, Всеволод Некрасов). Пригов, Рубинштейн и тот же Некрасов 1970-х годов — это уже не конкретизм, а концептуализм, но на той же историко-литературной линии.
Концептуализм — это, как явствует из названия, искусство концепта, идеи. В центре внимания концептуализма — язык, в том числе язык искусства. Грубо говоря, если раньше для художника язык был средством выражения, то теперь он стал предметом искусства, его темой. И обнаружилось, что языков очень много. Есть, скажем, язык разговорный, тот, на котором мы общаемся в повседневности, есть язык официальный, деловой, есть язык средств массовой информации, есть язык рекламы и т.д. То же самое касается собственно поэтического языка — там есть язык поэзии золотого века, модернистской поэзии (серебряного века), футуристов или, к примеру, усредненной советской поэзии.

Перформанс в культурном центре «Дом». 2000 год
Фото: Анатолий Сергеев / «Коммерсантъ»
Концептуалист работает не с одним языком, а со многими. И для концептуалиста все эти языки равноправные, потому что все они — не его, чужие, заимствованные. В принципе, любое употребление стиля (то есть одного из языков) не по прямому назначению имеет отношение к концептуализму. Поэтому обериуты, превратившие пародию в высокий философский жанр, — прямые предшественники современного концептуализма. Но как осознанная эстетическая программа концептуализм оформился именно в 1970-е.
В советской ситуации в окружающем языковом многообразии, разумеется, преобладал язык коммунистической пропаганды и советской мифологии. Концептуальное искусство, работающее с этим языком, получило название соц-арта («социалистическое искусство»). Первые соц-артистские произведения появились еще в конце 50-х годов в лианозовской группе. В живописи и графике — у Оскара Рабина, в поэзии — у Игоря Холина, Генриха Сапгира, Всеволода Некрасова. В 70-е годы эту линию продолжил и мощно развил Д.А. Пригов — уже в рамках общего концептуалистского движения.
Фрагменты выступления Д.А. Пригова на фестивале Genius Loci, Санкт-Петербург, сентябрь 1998 года.
Д.А. Пригов (1940-2007), Всеволод Некрасов (1934-2009), Лев Рубинштейн (род. в 1947) — три классика московского поэтического концептуализма, три кита, на которых держалось и держится все это литературное направление, получившее развитие и в последующие десятилетия оказавшее серьезное влияние на всю поэзию и шире — на всю нашу культурную ситуацию. В качестве иллюстрации к вышесказанному приведу свидетельство поэта Сергея Гандлевского.
«Мы одно время объединились в поэтическое представление "Альманах": Михаил Айзенберг, Тимур Кибиров, Виктор Коваль, Андрей Липский, Денис Новиков, Д.А. Пригов, Лев Рубинштейн и я. Даже слетали с ним в Лондон аж на три недели… Половодье взаимного дружеского увлечения за четверть века вошло в берега; двое умерли, но я по-прежнему сердечно привязан к оставшимся, и мне далеко не безразлично, что они думают обо мне как о человеке и авторе. "Айзенберговской кухне", скорей всего, я обязан и некоторым изменением эстетических вкусов и подходов. В "Московском времени" (Цветков не в счет, он всегда был сам по себе), если и не оговаривалось, то предполагалось, что существуют более или менее осязаемые параметры хорошего стихотворения: достоверность переживания, заинтересованная интонация, зримые образы, отсылки к высокой культуре, убедительная рифма — некий акмеистический эталон маячил за всем этим. Литературная практика и атмосфера компании "Альманаха" привили мне мнительное отношение ко всему вышеперечисленному — все так, но нужно еще что-то… А что именно — можно сказать лишь задним числом, когда литературная удача налицо. Не то чтобы до знакомства с поэтами "Альманаха" я самозабвенно и самодовольно клепал лаковые шкатулки, но несколько подвинулись мои представления о живом и мертвом в литературе. И теперь я нередко с прохладцей говорю о безупречном с виду стихотворении, в том числе и собственном: "Ну, стихи, ну, хорошие…"»

Поэт Д.А. Пригов во время представления оперы «Эйнштейн и Маргарита, или Обретенное в переводе» композитора Ираиды Юсуповой и поэтессы Веры Павловой в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ). 2006 год
Фото:: Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»
В «Альманахе» (который, как подчеркивал Айзенберг, нельзя называть «группой», а можно только «труппой») наиболее далекими от акмеистических эталонов были, понятно, Пригов и Рубинштейн. И неудивительно, что, пожалуй, единственное соц-артистское стихотворение Гандлевского «Отечество, предание, геройство» посвящено Пригову и сознательно выдержано в его стилистической манере и эстетике.
Что же это за эстетика? Поэтическую генеалогию Пригова мы уже обозначили: капитан Лебядкин, Козьма Прутков, обериуты, конкретисты-лианозовцы. Стоит добавить в этот список Эдуарда Лимонова, который хоть и моложе Пригова на несколько лет, в поэзии выступает как его предшественник — ведь он еще в конце 1960-х примкнул к лианозовским конкретистам. Никакой группы «Конкрет», объявленной Лимоновым в тамиздатском альманахе «Аполлон-77», не было, но то, что он был близок лианозовцам, являлся учеником Евгения Кропивницого и имеет самое непосредственное отношение к русской конкретной поэзии — факт. С Приговым его, пожалуй, больше других лианозовцев роднят некоторые важные поэтические интонации, чья общность обусловливается близостью характера «лирических героев», похожестью используемых литературных масок. Но, разумеется, и различия принципиальны, хотя бы потому что Пригов менял маски, работая не столько с масками, сколько с «имиджами» (по его же определению), в конечном счете — с целыми дискурсами (то есть языками) — что, собственно, и делает его образцовым концептуалистом.
Сам Пригов определял концептуализм (и вообще постмодернизм) как эстетику, в которой «стратегия, культурно-эстетической поведение… и жест доминируют над текстом как частным случаем всего этого». Его собственная стратегия, культурно-эстетическое поведение, все его художественные жесты базировались на позиционировании себя «работником культуры» (именно так, «работник культуры», называлось то самое интервью Рубинштейна с Приговым 2000 года), действующего постмодернистским методом деконструкции культурных кодов. Не «поэт» и не «художник», а «работник культуры» — это существенно, поскольку Пригов был и поэтом, и художником, и теоретиком искусства, и прозаиком, и, так сказать, перформансистом, то бишь автором-исполнителем. Безусловно, он интересен во всех своих ипостасях, и для каждой из них существенно вышеупомянутое пародийное позиционирование (был такой незабвенный советский типаж райкомовского инструктора по культуре). Но хотя Пригов по образованию художник, и художником он был до того, как стал поэтом, все же, если можно так выразиться, Приговым он стал, только осознав себя поэтом, и именно благодаря поэзии он оказался в самой сердцевине столь важного для русской культуры второй половины ХХ века явления как московский концептуализм.

Международный фестиваль экспериментального танцевального театра «Личное дело». Поэт Д.А. Пригов в спектакле театрального проекта Apparatus «Альфа-чайка» режиссера Александра Пепеляева. 20 июля 2006 года
Фото: Павел Смертин / «Коммерсантъ»
Будучи «работником культуры», а не «таинственным певцом», Пригов не мог зависеть от приливов и отливов вдохновения. Словно по заводскому гудку, он каждый день садился за стол, чтобы выработать, как на токарном станке, из концептуалистских заготовок, дискурсивных болванок, определенную норму готовой «культурной продукции» — стихов, рисунков, статей, страниц прозы. Безусловно, это тоже мифологема, но сознательно культивируемая и имеющая прямое отношение к реальности. Процитирую еще раз Гандлевского: «Изо дня в день он, как на работу, ходил по мастерским, домашним чтениям, кухням, салонам и т.п., расширяя свою культурную осведомленность и методично внедряясь в современный "культурный контекст" (говоря о нем, и я перенял оборот его сухой наукообразной речи). А в оставшееся время суток писал свою норму "текстов" и рисовал — тоже норму, а не наобум. Не пил, не курил или бросил курить. И так из года в год».
Это своего рода концептуальная сериальная техника в духе Льва Рубинштейна и Ильи Кабакова, вернее технология. Стратегия. И почти промышленная серийность подобной продукции вроде бы снимает вопрос художественного качества. Все и так изготавливается по дискурсивному ГОСТу, о каком особом качестве может идти речь? Да и центральная для постмодерна концепция «смерти автора» (введенная французским литературоведом и философом структуралистского направления Роланом Бартом) вроде бы не оставляет места для подобных разговоров — для них просто нет релевантного лексикона, нет хоть в какой-то степени надежного семиотического инструментария.

Поэт Лев Рубинштейн на фестивале памяти Д.А. Пригова в театре «Школа драматического искусства»
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Однако «смерть автора» вовсе не означает исчезновение автора как такового. Ролан Барт говорил лишь об изменении его роли, ущемлении в некоторых правах, смещении акцента на читателя, на его культурные коды. А причина такого смещения вовсе не праздная. Об этом достаточно сказано, но при разговоре о Пригове и о концептуализме, о сказанном стоит хотя бы напомнить, иначе заявление о том, что концептуализм — важнейшее для русской культуры второй половины ХХ века явление, останется голословным. Разумеется, я имею в виду известное высказывание немецкого философа Теодора Адорно о том, что после Освенцима писать стихи невозможно. Из этой невозможности возникла конкретная поэзия в Германии, чуть позже (но независимо) — в России, а потом и концептуализм.
Классический и модернистский автор (в том числе автор классического авангарда) были решительно поражены в правах, потому что эта плодотворная до поры ветвь художественной эволюции не то что завела в тупик, а вызвала колоссальную гуманитарную катастрофу. Не только она за это ответственна, но и она в том числе. Классическая и модернистская авторская позиция была попросту невозможна в том мире, в котором мы оказались после Освенцима и ГУЛАГа. Художественную смерть этого автора и констатировал Барт, однако родился новый автор. Не в одночасье, а за годы, десятилетия — но это случилось, чему свидетельством — московский концептуализм. И это весьма яркое свидетельство. Ведь сдвиг постепенно произошел во всей поэзии, литературе, изобразительном искусстве. Но именно в концептуализме он, что называется, манифестировался, показал себя в своей сущностной полноте.

На ретроспективной выставке Д.А. Пригова «От Ренессанса к постмодернизму и далее». Государственная Третьяковская галерея, Москва, 2014
Фото: Автор: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»
Если формулировать максимально упрощенно, концептуализм вывел искусство из модернистского тупика, открыв другую ветвь художественной эволюции и тем самым ее продолжив, вернув дискредитированному человечеству способность к художественному творчеству, а стало быть, и к самой жизни. Жизнь, как говорил Хармс, победила неизвестным науке способом. Сейчас накопились другие проблемы, но в тот момент — 1970-е годы — русская поэзия, безусловно, преодолела кризис, вызванный общей гуманитарной и национальной катастрофой и вовсе не преодоленный, но, напротив, в некоторых аспектах лишь усугубившийся с оттепельным поэтическим бумом. И московская школа концептуализма, в том числе поэзия Пригова, сыграла в этом важную роль.
Безусловно, «смерть автора» не подразумевает индифферентности к художественному качеству. Самому Барту это никогда бы не пришло в голову. Недаром он в качестве позитивной эстетической программы выдвинул концепцию «удовольствия от текста». Пригов идеально подходит под бартовское описание автора, предоставляющего читателю возможность наслаждаться не «множеством истин, а слоистостью самого акта означивания». Это и есть то художественное качество, которое создает концептуализм, то, в чем Пригову не было и не будет равных. Так тотальное поражение автора в правах обернулось блестящей авторской победой. Это победа всей русской поэзии, и немалая в том заслуга — лично Дмитрия Александровича Пригова, виртуозного художественного многостаночника, литературного стахановца, но прежде всего — большого поэта.