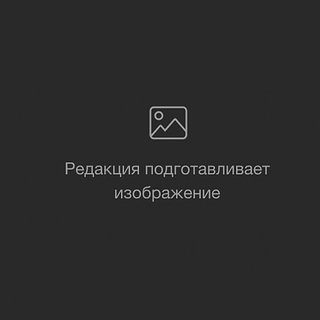Товстоногов был на виду, но про обстоятельства его жизни знали только близкие. Тем не менее, в орбите режиссера и педагога оказывались десятки и сотни людей – ведь он руководил большим театром, преподавал почти три десятилетия. Был депутатом. Многие вспоминают о встречах с Товстоноговым как о поворотных моментах своей жизни. Его ученики, режиссеры Кама Гинкас и Генриетта Яновская благодарны мастеру за профессию. А режиссер Борис Покровский, однокурсник Товстоногова по ГИТИСу, помнит Гогу-хулигана. «Лента.ру» публикует отрывки из воспоминаний, вошедших в книгу «Георгий Товстоногов. Собирательный портрет».
Кинодраматург Анатолий Гребнев
В грузинских семьях детские прозвища и имена так и прилипают к человеку на всю жизнь. Почему-то Гогой он остался не только для семьи и друзей детства; имя это сохранилось за ним и в широком театральном кругу, когда стал он уже знаменит. «Смотрел спектакль Гоги?»
Тем не менее, уже и тогда, молодым человеком, Гога внушал к себе почтение. Я почти не встречал людей, которые были бы так естественно ограждены от всякой фамильярности и амикошонства, как он, Гога, даже когда с ним говорил на «ты». Власть режиссера сквозила во всем его облике. Он был режиссером. Он им родился. Даже не знаю, что было бы с ним, родись он в прошлом веке, когда еще не было такой профессии.
А еще он был грузином, это уж без сомнения. Я упомянул выше о грузинской семье, а меж тем, грузинкой там была только мать, а отец – русским. Я, кстати, помню отца – видного инженера-путейца и преподавателя; мы, мальчишки, обращались к нему по делам детской железной дороги. Он сгинул в тридцать седьмом. (…) Грузинское начало обладает какой-то магической заразительностью: вкусы, обычаи, артистизм, этикет… Вот и дом Товстоноговых-Лебедевых в Петербурге, со всегдашними, когда ни придешь, гостями из Тбилиси, был и остался грузинским домом. Надо ли говорить, что здесь всегда болели за тбилисское «Динамо», когда оно еще существовало, - вот он, показатель патриотизма!

В семье Георгия Товстоногова называли Гогой, а его младшую сестру, Натэллу — Додо
Сам Георгий Александрович избегал говорить по-грузински. Думаю, по той причине, что не так хорошо знал язык! Вот эта боязнь себя уронить – тоже ведь грузинская черта!
Актриса, режиссер Елена Иоселиани
Георгий Александрович собирался организовать театр в Тбилиси. Один из курсовых спектаклей – «На всякого мудреца довольно простоты» - был замечательным. Но Хорава (Акакий Хорава – грузинский актер, режиссер, педагог; в описываемое время был директором Тбилисского театрального института им. Шота Руставели) закрыл его и требовал доработать, хотя никаких конкретных замечаний не сделал. Хорава смотрел генеральную репетицию. А я играла мамашу Глумову (кроме того, что была ассистенткой Товстоногова). Когда репетиция закончилась, я застряла в кулисах, снимала юбку. Сначала невольно, а потом от страха, я не успела уйти. За кулисами была совсем маленькая комната, пол там был скрипучий, поэтому я боялась ступить, когда услышала громкие голоса. Разговор становился все громче и громче и достиг крика. Я замерла от ужаса. Услышала громкие шаги Хоравы и голос Георгия Александровича: «Я вам не мальчишка!» Меня нашли в обмороке. Я призналась потом Георгию Александровичу, что невольно стала свидетельницей скандала. Г.А. рассказал, что Хораве доложили об идее организовать театр. (…) И это было ужасно. Случившееся ускорило отъезд Товстоногова. Он хотел все вырвать из сердца: и Саломэ (жену), и институт, и неудавшийся театр. Он очень любил жену, а она оставила ему детей по решению суда. У нее были романы, и не один. Это и стало причиной развода. Георгий Александрович долго не верил в измены Саломэ. Он мне говорил, что абсолютно доверял ей, в ответ на сплетни и слухи возражал: она так наивна, так непосредственна, мол, все это светская ложь. Он был потрясен, когда выяснилась правда. Я советовала ему все простить: ведь у них было двое детей, они любили друг друга. Но он в этих делах был непримирим.
Режиссер Борис Покровский
Я познакомился с ним в первый день моего поступления в ГИТИС. Он сам разыскал меня и подошел во дворе института. Гога всегда был очень хитрым и ловким и умел устраиваться в жизни. Дело в том, что я поступал в институт вне конкурса. Я был рабочим, в списке абитуриентов против моей фамилии стояло: «вне конкурса». Так что он обратил на меня внимание не случайно: увидел эту запись и нашел меня. Мы через шесть минут перешли на «ты» и так оставались до конца жизни. У нас сразу установились дружеские отношения. Потом Гога разузнал в профкоме и других институтских инстанциях, что к чему, и добился того, чтобы меня выбрали старостой курса. Для этого он переговорил со всеми однокурсниками, и меня единогласно выбрали. Это был серьезнейший акт. Этим он себя раскрепостил и далее делал все, что хотел. Когда его хватали за руку и говорили, мол, то, что он делает, не соответствует званию советского студента; мол, он не понимает, что государство платит за него деньги, а он все время стоит на лестнице у зеркала и т.д. Он знал, что я его никогда не предам. Все, что он проделывал во время учения, падало на меня как на старосту. Я защищал его на всех собраниях, меня не раз вызывали в ректорат или деканат. Гога всегда был уверен, что я его отстою. Иногда он даже огорченно спрашивал: «Что же ты?» и пожимал плечами. Если следовали какие-то разборки и наказания, то у него появлялась такая интонация: мол, что теперь тебе делать? Я до сих пор помню эту интонацию. У него всегда было странное желание пофорсить, показать класс.

Георгий Товстоногов (второй слева) на уроке танцев в ГИТИС. 1930-е годы
***
С Марком Рехельсом, другим нашим однокурсником, он развлекался так: они становились где-нибудь на лестничной площадке и не пропускали ни одной девушки, чтобы не одарить ее своим вниманием. Этим они вызывали интерес всего института. Их стали называть Гога с Магогой. Если Гога исчезал из института на несколько дней, девушки спрашивали: где же он?
***
Гога очень любил производить впечатление. Он даже одевался так, что это бросалось в глаза. Как-то он приехал из Тбилиси в зеленых ботинках, причем абсолютно квадратных. Такие могли сделать только в Грузии. Мы высмеяли его, а он считал, что это особый шик. Он очень ловко убегал от наших насмешек. Правда, вскоре он как-то варил в общежитии щи и залил ими свои ботинки. Рехельс считал, что он это сделал нарочно, чтобы к нему не приставали.
***
В Лондоне мы с ним встретились как-то на международной конференции. Я от Большого театра, он от Ленинграда. Нас пригласили на королевский бал, и это означало, что надо прийти во фраках. Я, как дурак, стал искать фрак, бросился в посольство. Гога решительно отказался: «Мы не какие-нибудь мальчишки. Мы просто не пойдем». Назревал скандал. Он сказал: «Пусть». Наши коллеги из Польши, Болгарии, ГДР, узнав о нашем официальном отказе от приглашения на бал, присоединились к нам. Буквально через тридцать минут королева дала разрешение приходить, кто в чем может. Гога на это прореагировал так: «Вот так и надо с ними». Ну а в нашей с ним реакции на установку проявилась разница характеров, жизненной позиции. Подумать только: какой-то Товстоногов каким-то образом изменил весь лондонский сюжет. Это воля и расчет. Он просчитывал всегда на много шагов вперед и так решителен был всегда.
Звукорежиссер Юрий Изотов
Я боялся его – не того, что он меня выгонит, но того, что он может что-то резко сказать (такое с ним бывало). Один раз работали над «Тремя сестрами», кажется. Я несколько раз произнес «благове́ст» - слово мне не очень родное, поэтому с ударением на последнем слоге. «Значит так, Георгий Александрович, идет юношеское трио Рахманинова, оно переходит в благове́ст, потом благове́ст переходит…» - «Стоп! Юра, выйдите на сцену». Я выхожу. «Дайте на него фонарь». Дали фонарь. «Юра, запомните раз и навсегда – нет слова "благове́ст", есть слово "бла́говест". Запомнили?» - «Да». Казалось бы, срам? Срам. В тот момент я смутился. Потом вспомнил, как он учил Полицеймако какому-то слову типа «экзистенциалист» и, в конце концов, сказал ему: «Бронтозавр». Такие уроки в присутствии коллектива и посторонних навсегда влетают в голову. Как режиссер, он утвердил это слово во мне. Хорошо это? Грубо? Грубо, но хорошо. Не оскорбительно.
Режиссеры Кама Гинкас, Генриетта Яновская
Гинкас: БДТ был театром с тоталитарным режимом, только надо к этому относиться спокойно. Не с фашистским, не со сталинским, а с тоталитарным. «Добровольная диктатура», по известному определению Товстоногова. Или своеобразная монархия. Его обожали, как Сталина, его боялись, как Сталина, опасались, как Сталина, слушались, как Сталина, шли за ним, как за Сталиным, и плакали после смерти его так же.

Георгий Товстоногов на заседании Верховного совета СССР, вторая половина 1960-х
***
Яновская: Я не знаю, приходилось ли Товстоногову испытывать актерские предательства (наверное, приходилось, но, может быть, в меньшей степени, чем другим). Я помню, когда мы учились, он нам говорил: «Никогда не пейте с артистами». Мы это воспринимали с юмором. Когда Кама поехал на первый спектакль в Ригу, и его знакомый, с которым мы учились, воскликнул: «Это так потрясающе, что ты приехал, давай выпьем!» - Кама Миронович, как честный ученик Товстоногова, ответил: «Я с артистами не пью», обидев человека насмерть.

Георгий Товстоногов
***
Гинкас: Он терпеть не мог шаманов и шарлатанов. Для нас в студенческие годы главные слова были: «профессионально», «непрофессионально». Он был, конечно, гений, но верил в рукотворность. Любимыми его выражениями были «построение сцены», «роль выстроена», «спектакль сделан», «сцена построена», «не построена». Дух подчинялся ему. Вдохновение контролировалось расчетом. Такая вот принципиальная разница с нынешним «одухотворенным» временем, когда мы так любим спиритические сеансы и всякую другую возвышенную чушь. Товстоногов – фигура, слишком крепко стоящая на ногах, слишком мускулистая, даже мослатая. Слишком, я бы сказал, объективная. Он не позволял себе «высказывания». В его спектаклях главное – некий объективный, исторический взгляд на явления, на факты, на людей.
Художник Эдуард Кочергин
Во время своей последней поездки в Америку он попал к тамошним врачам, ему сделали полное обследование. Он ехал домой в ужасе. Натэллы Александровны в это время не было, она уезжала куда-то. Он стал мне говорить, что видел самый страшный фильм в своей жизни: «Я смотрел на свои сосуды». Они, врачи, показали ему, в каком состоянии его сердце. Они сказали, что, если он не бросит курить, ему останется жизни два года. Тогда Георгий Александрович сказал, что курить бросит, ему никуда не деться, сразу, как только вернется в Россию. Самолет опустится, и он выбросит сигареты. (…) Мы прилетели в Москву, он действительно бросил курить. Ему было плохо. Мы приехали в Питер, и, не знаю, почему, но врачи разрешили ему работать. Буквально через неделю он стал репетировать, не отойдя от всех недавних событий. Потом признали, что у него точно в это время был инфаркт. Репетировал он не то что немощным, а просто больным. (…)

Георгий Товстоногов за рулем, начало 1970-х
Ему надо было лежать. Именно на репетициях «На дне» он закурил снова. Он выдержал без курения неделю, полторы. До того, как прийти в театр, он не курил… Ему бы нужно было несколько месяцев вообще ничего не делать. Такие странные у него врачи были. Мои бы не разрешили. Я ему говорил, что у него что-то с сердцем. Он соглашался, но возражал, что уже отошел. А как стал репетировать «На дне», закурил. И все. «Георгий Александрович, почему вы закурили?» Он мне на это сказал: «У меня есть характер, но нет силы воли».